






Глава пятая. Зеленый домик
1
Измотанный шумной и бестолковой жизнью, собственной писательской общительностью, кутежами, литературной славой, Куприн жаждал теперь только одного: покоя. Сорок лет - порог, переступив который пора подытоживать содеянное и строже относиться к себе. Он еще не старик, нет, и сейчас Куприн чувствовал себя способным на любую молодеческую дерзость - от невинного кадетского озорства до кулачной схватки. Но он уже и не тот Куприн, бешеный темперамент которого питал сенсациями бульварных журналистов. Пора было искать пристанище, в котором можно бы спокойно и безопасно работать, жить нехитрыми, но милыми сердцу семейными радостями. Балаклавский рай был слишком далеко, да и не находил в нем Куприн той русской прелести - лес, речка, пойменный луг, тишина, готовность души к созерцанию, - которую всегда так ценил. Спору нет, красиво, даже роскошно, но не Россия.
И он стал подумывать о собственном домике в окрестностях столицы.
Гатчина, маленький дачный городок под Петербургом, давно уже привлекал Куприна тишиной, зеленью, памятью о сумасбродном императоре Павле I, обилием исторических реликтов, - дворец, построенный Ринальди, Приоратский дворец, павильоны Орла и Венеры на острове Любви, Дворцовый и Приоратский парки, Зверинец... Наконец, привлекал тем, что именно в Гатчине была первая в России профессиональная школа авиаторов.

А. И. Куприн в кабинете. Гатчина
Здесь каждая улица была обсажена двумя рядами старых густых берез, а длинная тенистая Багавутская улица, пролегавшая через весь фасад, даже четырьмя. Весною вся Гатчина нежно зеленела первыми блестящими листочками сквозных берез и пахла терпким веселым смолистым духом. Осенью же она одевалась в пышные царственные уборы лимонных, янтарных, золотых и багряных красок, а увядающая листва благоухала, как крепкое старое драгоценное вино. А буйное цветение сирени, подобного которому Куприн не видел нигде в России? В красно-фиолетовых и лимонных волнах утопали маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и в особенности дворцового парка и его окрестностей....
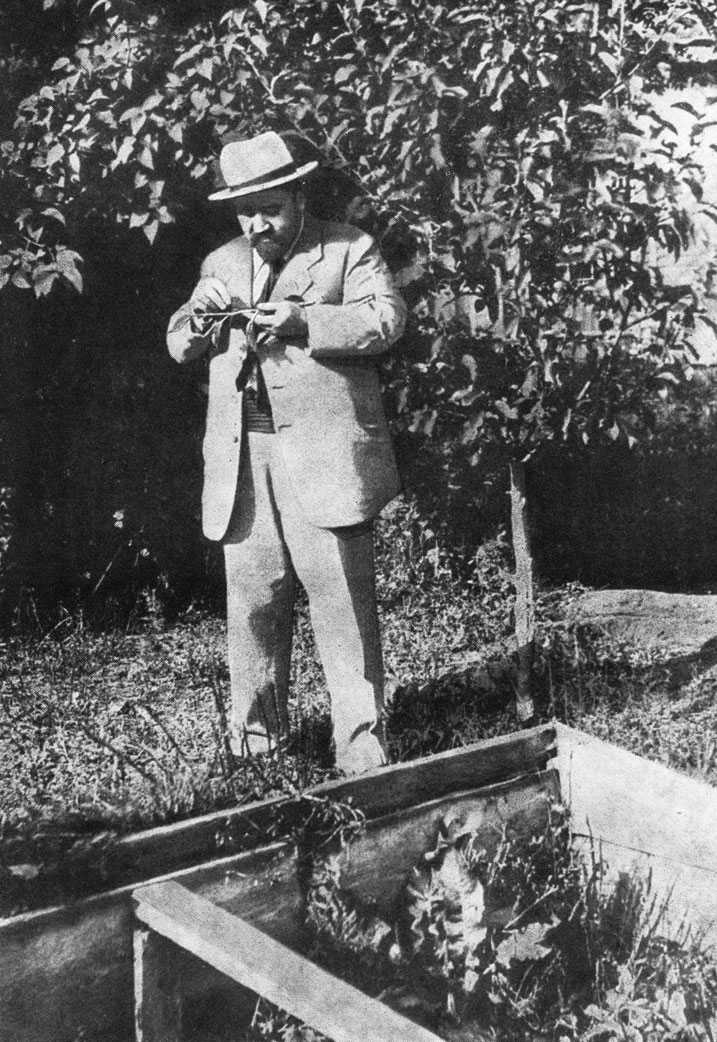
А. И. Куприн в своём саду. Гатчина
В Гатчине жил давний приятель Куприна, талантливый художник-карикатурист Павел Егорович Щербов. Он построил себе особняк в скандинавском стиле с фундаментом из огромных диких валунов финляндского гранита.
Наезжая в Гатчину, Куприн стал подыскивать для покупки усадебку и вскоре узнал, что некий подполковник Овальд продает дом на Елизаветинской улице.
- Представляешь, Лизанька, - радовался он по-детски, - у нас будет дом на улице, которая названа в твою честь!..
Домик был уютный, зеленый, в пять комнат, с большой террасой, окруженный тополями, с небольшим садиком и даже с огромным псом Малышом, которого Эвальд оставил в наследство новым хозяевам. Куприн и его маленькая дочка скоро завоевали полное доверие собаки. Вообще же в гатчинском зеленом домике было множество животных: собаки, кошки, обезьяна; во дворе в деревянных и каменных пристройках - лошади, козы, медвежонок, куры, гуси. Но главным, самым дорогим для Куприна был сад.

А. И. Куприн с семьей. Гатчина
Теперь его потянуло к земле особенно крепко, сильнее, чем тогда, в Балаклаве. Быть может, это и было сигналом близящейся старости: "Из земли вышел и в землю вернешься..." Непоседа, выпивоха, кутила, насмешник, спортсмен, бешеный огурец, он долгими днями сидел на маленьком участке: никому не доверял возиться и копаться, сам сажал, сортировал, благоустраивал свой маленький сад.
В каждый вершок был вложен огромный, но благословенный труд. Здесь росли яблони-десятилетки поздних сортов, плоды которых, правда, никогда не дозревали: их срывали и прятали до Рождества; крупная пышная темно-красная клубника "виктория"; парниковые дыни-канталупы "Женни Линд". Перед домом Куприн разбил цветник, который благоухал на всю Елизаветинскую улицу.

Гатчинский дворец
А каким раем оказалась Гатчина для маленькой Ксении - мир животных и растений, прогулки с отцом по парку Приорат, ужение рыбы и плавание на маленькой утлой лодчонке "плюмажем"... Куприн любил дочь своеобразной, "кунринской" любовью. Он ненавидел всякое сюсюканье и "цацканье". Дети, даже самые маленькие, были для него существами с очень сложным, глубоким и ранимым естеством. Входить в их мир легкомысленно, по-шутовски и лицемерно он считал преступлением. Именно в таком подходе Куприн видел главную причину исконного разлада между детьми и взрослыми.

А. И. Куприн с дочерью Ксенией
Когда Ксения призналась, что старая нянька учит ее молиться богу, он не стал долго раздумывать и посоветовал дочери обращать свои молитвы к таким предметам, как солнце, огонь, луна, большое дерево.
- Утром встанешь, посмотри в окно на солнце, похлопай ему в ладоши и крикни: "Здравствуй, бог!" Вот и будет вся твоя молитва...
Елизавета Морицовна возражала против такого "язычества", но Куприн объяснял ей:
- По-моему, уж если молиться, так чему-нибудь видимому, осязаемому. А что такое "бог Саваоф"? Мстительный, злокозненный и таинственный старикашка, который так и норовит сделать людям какую-нибудь пакость!.. Девочка нечаянно порезала палец, ей больно, а вы говорите: "Это тебя бог наказал за то, что шалишь!" Сделали из бога какое-то пугало для детей вроде трубочиста или городового...
- Ах, Саша, - вздыхала Елизавета Морицовна, любуясь мужем и пугаясь за него, - накажет тебя бог за такие слова! Разве можно внушать подобное ребенку?..
- Как раз ребенку и надо говорить то, что можешь сказать только самому себе, - отзывался Куприн и мечтательно продолжал: - Если бы мои скромные жизненные потребности были совершенно обеспечены, я писал бы одни хрестоматии и рассказы для детей. И писал бы их, терпеливо переписывая и переделывая по двадцать раз, доводя до возможного совершенства.
В Гатчине Куприн снова стал много и систематически работать. Летом уходил в сад, в самый тенистый уголок, где густо росли тополя, елки, рябина, сирень. В центре маленькой площадки стоял врытый в землю стол из толстого сруба и полукруглая скамья. Там, запасшись холодным квасом, он часами просиживал со своим стенографом Комаровым, а в дождливую погоду они устраивались на веранде. Куприн работал над второй частью "Ямы". В это время все в доме замирало, кажется, даже собаки переставали лаять...
Зимой Куприн запирался в своем кабинете с лиловыми занавесками и обилием цветов на подоконниках. На столе из белого ясеня с тяжелыми верхними досками простой плотницкой работы - старая фарфоровая чернильница, стопка книг, приготовленных для чтения, и справа фотографический портрет с размашистой надписью внизу: "Александру Ивановичу Куприну - Лев Толстой". На стенах кабинета офорты и акварели, подарки знакомых художников. Среди них картина-карикатура Щербоиа "Базар XIX века", где были тонко и метко шаржированы виднейшие деятели русского искусства - В. Стасов, С. Дягилев, Ф. Малявин, И. Репин...
В углу кабинета украшенный резьбой оливковый ящик, где собраны переводы "Поединка" на испанский, польский, итальянский, чешский, французский, японский, немецкий - всего около двадцати томиков. В специальном ящике "человеческие документы" - письма читателей, на которые Куприн аккуратно отвечает. Убранство кабинета дополняет большой темно-красный хоросанский ковер, разостланный на полу.
Куприн ходит взад и вперед по диагонали, быстро диктуя Комарову фразу за фразой. Сам он не особенно любит писать, говоря, что у него мысль обгоняет перо. Стенограф сидит спиной к писателю, чтобы не отвлекаться. Вот Куприн задумался^над фразой, которая не клеится. Удар каблука о пол. Это означает, что пока не нужно записывать. Он произносит вслух один вариант фразы за другим. Наконец нужные слова найдены и расположены так, что создают искомый художественный эффект. Куприн с довольным лицом ударяет два раза в ладоши, и Комаров продолжает писать.
После расшифровки стенограммы Куприн часами сидит над рукописью, правит, шлифует, а иногда и совершенно заново переписывает целые страницы. И снова работа со стенографом...
Порою, диктуя текст, Куприн замечал, что его маленькая дочка, готовая зареветь от скуки, слоняется по квартире. Он тотчас бросал диктовать, подходил к ней и притворно-плаксиво начинал:
- Аксинья! Скучно мне! Никто со мной не игра-а-а! Хожу я, как брошенная соба-а-а!
И тогда, проникнувшись к отцу жалостью, Ксения начинала сама придумывать для него игры, втягивалась в них, и обоим становилось весело.
Зимой, встав затемно, Куприн отправлялся на лыжную прогулку, затем с большим аппетитом завтракал, тем более что перед маринованным "самосборным" грибом выпивал большую рюмку "травничка". После завтрака чтение газет, журналов, корреспонденции. Поработав над рукописью, Куприн отправляется с деревянной лопатой чистить от снега дорожки в сад и кормить крошками пернатую братию, которая прекрасно знает, что в один и тот же час, к определенному месту приходит коренастый человек в шапке с наушниками и в валенках.
Зимний день короток. Обед Куприных кончается, когда за окном сгустились сумерки. Хозяин отбирает у няни Саши, красивой дородной одесситки, кочергу и принимается сам, священнодействуя, затапливать печь.
Он боготворит огонь с детской поры, с Вдовьего дома на Кудринах. Подолгу остановившимся взглядом глядит он в одну точку, на золотую и рубиновую россыпь углей, источающих волны жара. На душе благостно и томно, образы прошлого синими тенями пробегают над припорошенными золой головешками, подбираются из лилового мрака за окнами, обступают Куприна.

Здание бывшего Вдовьего дома в Москве на Кудринах
В эти минуты легко, без понуждения приходит то, что называется возвышенно и книжно вдохновением, разные временные впечатления теснятся в дремлющем сознании - 46-й Днепровский пехотный полк, глухая провинция и безответно влюбленный горбатый телеграфист Саша Врублевский; чары белой акации на юге; святочная история, рассказанная неким знаменитым адвокатом; увиденная Куприным в Житомире, где писалась первая часть "Ямы", гибель дерзкого петуха; собачья жизнь околоточного надзирателя Ветчины, который мечтает с сыном-гимназистом о несбыточных путешествиях; зеленый рыхлый забор купринского детства, где растут лопухи и глухая крапива; дерзкий поступок дьякона Олимпия, провозгласившего "Многая лета" отлученному от церкви Льву Толстому и навеянный обликом протодьякона Гатчинского собора Амвросия... Так рождаются один за другим рассказы "Телеграфист", "Белая акация", "Начальница тяги", "Чужой потух", "Путешественники", "Травка", "Медведи", "Слоновья прогулка", "Анафема"...
Спору нет, большею частью то были коротенькие вещицы, часто не удовлетворявшие самого писателя. "Скучно мне писать мелочишки", - сетовал он. К тому же Куприн мало давал отстаиваться впечатлениям, порою торопился передать их бумаге в ущерб глубине воплощения. Сам он постоянно мечтал о большом полотне, возвращался ко второй части "Ямы", но поджимали долги. За дачу, купленную в кредит, приходилось выплачивать до 1915 года. Вот и оставалось работать на потоке, "из-под рук", получая от издателей деньги за еще не написанные произведения. Да и убежищем от друзей, знакомых, прихлебателей Гатчина Куприну служила недолго.
Стали появляться жданные и нежданные - артисты цирка, клоуны, борцы, авиаторы, спортсмены, писатели, журналисты и просто бродяги. "На людях тяжело, а одному и вовсе крышка, - объяснял Елизавете Морицовпе, едва сводившей концы с концами, хозяин зеленого гатчинского домика, наказывая купить к обеду снова шестнадцать фунтов мяса. - Один живет только паук, а Куприн - человек веселый, и каждый гость ниспослан богом..."
2
26 августа весело и шумно отмечался день рождения Куприна.
Гости начинали съезжаться рано, к завтраку. В прихожей, почти не умолкая, трещал звонок. Сам хозяин встречал гостей, с неистощимой выдумкой изобретая каждому особое приветствие.
У калитки появляются две исполинские фигуры - знаменитые борцы Иван Заикин и Вахтуров.
- Молоток! - кричит Куприн домашним.
Этот инструмент нужен для того, чтобы открыть вторую половинку двери. Заикин еще может пролезть в одну, а Вахтуров никак - это уже проверено. Два великана входят в квартиру с неловкой грацией слонов, боясь что- нибудь опрокинуть или поломать.
К приезду критика Измайлова, бывшего семинариста и настойчивого собирателя бурсацкого фольклора, Куприн наскоро организует маленький хор, и Александра Алексеевича еще на пороге встречают старым семинарским запевом "на седьмой глас":
Сидяху на яблоне, да Питахуся сливами, да Ишел мужик с вилами, да Он меня бия-я-яху, Я же вопия-я-яху: Постой, дяденька, не бей, Дам тебе пару голубей! Слава силе твоей, госпо-о-ди-и!
Цирковой артист Жакомино появляется одетый нянькой с запеленатым ребеночком на руках. Клоун искусно подражает крику младенца. Но при виде хозяина он вдруг делает неосторожное движение, "ребенок" падает на пол, бумажные пеленки развертываются, и в них толстый батон колбасы, настоящей итальянской "салями", приготовленной мамашей Жакомино.
Писатель А. П. Будищев, гатчинец, пришел с шампанским и своими стихами, посвященными виновнику торжества.
- Нет, я не согласен с рифмой "Куприна" и "откупорена", - говорит хозяин, выслушав стихи с бокалом в руках. - Я Куприн, и забывать об этом никому не советую. Я устал повторять, что фамилия моя произносится с ударением на последнем слоге, так как происходит от названия дрянной речонки в Тамбовской губернии - Купры...
Появляется сосед и друг Куприна Павел Егорович Щербов, смуглый, с длинной редкой ассирийской бородой, в просторной синей блузе. Он приносит свой плакатный портрет, сделанный для табачной фабрики Шапшал, под названием "дядя Михей": бородатый мрачный мужчина в широкополой шляпе извергает из трубки вулканные клубы дыма.
Среди гостей и внук декабриста, отставной гусар Минай Бестужев-Рюмин. От былой красоты остались только черные печальные глаза и длинные тонкие пальцы рук.
- Мина! - взволнованно говорит Куприн, крепко целуя его. - Как я рад, что ты вспомнил меня! Садись за столы, мой друг!
Приезжает молодой журналист и поэт Коля Вержбицкий, любимец Куприна и частый гость в зеленом домике. Хозяин молча залезает всей пятерней в его вьющиеся ржаные кудри и стискивает их до боли.
Когда в дверях появляется высокая фигура Федора Дмитриевича Батюшкова, Куприн широко обнимает его и под руку вводит в столовую, где у камина уже приготовлено почетное место для самого близкого друга.
На богато сервированном столе среди бутылок различной формы и цвета, среди зелени, закусок - гигантский эмалированный таз с черной икрой, из которого торчат деревянные ложки.
- Не стесняйтесь, налегайте, - видя недоуменные взгляды гостей, предлагает Куприн и поясняет, обращаясь к Заикину: - Наш дружок прислал... Ваня Поддубный... из Царицына... Три пуда.
Заикин, весьма осмотрительно усевшийся на хлипкий венский стульчик на тонких ножках, в ответ только сопит, смотрит любовно на Куприна и поднимает в немом приветствии тонкий стакан смирновской водки.
После первых пожеланий и тостов Куприн просит:
- Дядя Яша! Мою любимую...
Яков Адольфович Бронштейн, инженер, меценат артистической молодежи суворинского театра, перевел на французский язык и посвятил Куприну свой перевод солдатской песни "Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет!". Хохот поднимается за столом, когда он залихватски исполняет ее:
Россиньёль, россиньёль, Птит'уазо, Лё канарие Шант си трист, си трист! Эн... Дё... Эн... Дё... Иль нья па де маль! Лё канарие Шант си трист, си трист!..
- Джакомо! - зовет Кудрин клоуна.
Когда тот поднимает голову, через весь стол летит пустая тарелка, которую Жакомино ловит и возвращает назад. Куприн принимает ее с ловкостыо профессионального жонглера.
- Браво, Александр Иванович! - взрываются аплодисментами гости.
- Ну что вы! - смущается Куприн. - Я только подражаю чистоте броска нашего Джакомо.
Именинник мил, весел, остроумен. Он ничего не "изрекает", не возвещает непререкаемым тоном, не одергивает младших. Вержбицкий спрашивает у Куприна, при каких обстоятельствах появился у него портрет Льва Толстого.
- Эту фотографию мне доставил литератор Сергеенко, - объясняет Куприн. - Подарок был сделан, по инициативе самого Льва Николаевича, причем великий писатель просил передать поклон и совет: "Пишите по-своему". Совет этот принять к неуклонному исполнению мне было нетрудно. Ведь я ни к одной писательской группе не примыкаю...
Куприн рассказал, что видел Толстого только однажды, мельком. Потом получил приглашение приехать в Ясную Поляну, два раза отправлялся, но доехать не мог.
- Почему же? - удивляются гости.
- Страшно было! - Куприн развел руками и растерянно улыбнулся. - Нет, ей-богу, мне казалось, что старик посмотрит на меня своими колючими глазами и сразу все увидит. А мне сделается стыдно и страшно...
У всех еще жива в памяти смерть Толстого, болезненно и остро пережитая Куприным.
- Так я с ним верхом и не поездил... - задумчиво говорит он. - Но зато в тот самый час, когда старик умирал на станции, я в Одессе перечитывал "Казаков" и плакал - плакал от умиления и благодарности...
- Вот они, тернии литературной деятельности и славы, - вступает в разговор Измайлов. - Когда Толстой скончался, прикрываясь его авторитетом, критики начали сводить личные счеты, а пресса подняла какофонию, от которой за версту разило саморекламой.
- Я бы заставил для литераторов ввести обязательную дисциплину - уроки нравственности, - поддерживает его Батюшков, помогая словам плавным, изящным движением руки. - Чтобы ежегодно сдавали экзамен, и самой строгой комиссии.
- Да, в профессии литератора много отвратительного, - соглашается Куприн. - Сколько мусора и человеческой грязи пропускаешь через себя! Чего стоят разбойники издатели! Эти хищные вороны, прожорливые и ненасытные! Они торопят нашу бедную фантазию, чтобы туже набить себе карманы. А бульварные строчилы, вроде Фомы Райляна или гнусного Оскара Норвежского, которые полезли в спальню, в ванную, в нужник к писателю! Ах, будь проклят тот день, когда я впервые увидел в печати свой рассказ! - с полушутливым трагизмом восклицает он. - Почему мой ротный командир, капитан Фофанов только посадил меня под арест, а не выпорол за это! Нет горше хлеба на свете! Почему я ушел из армии? Ведь перед самым уходом мне была обещана личность батальонного адъютанта. А вы знаете, друзья, что такое адъютант в пехоте? Это офицер, получающий в свое распоряжение верховую лошадь! - Куприн щурит свои маленькие серо-синие глазки. - Нет, любая другая профессия была бы, право, спокойнее и чище, чем литературная. И почему я не поступил в бранд-майоры, когда еще был молод? Почему я не остался у инженера Тимаховича продавать ватерклозеты?..
Между тем из кухни, откуда все сильнее доносился раздражающий обоняние запах гуся, запекаемого каким- то особенным образом в тесте, вышла Елизавета Морицовна и знаком позвала мужа. Монолог был оборван на самом интересном месте.
Воротился за стол Куприн с печальным лицом.
- Эх, стар становлюсь, - сказал он, качая головой.
Оказывается, кухарка занозила палец, Куприн хотел
зубами, как это он обычно делал, вытащить занозу и не смог.
- Первый признак надвигающейся старости, - заявил он. - Зубы перестают осязать. Раньше я эту операцию производил великолепно...
В гостиной вернулись к литературным темам.
-Я не советую никому писать о том, что вы никогда не видели и не испытали, - говорит Куприн, обращаясь к молодым - Вержбицкому и Ялгубцеву. - Это всегда будет неубедительно, потому что убедительность создается подробностями, деталями. Однако как трудно находить эти детали! Иногда они у тебя перед самым носом, но ты их не видишь. Вот-вот! Надо научиться не только смотреть, но и видеть. Возьмите "Анну Каренину" - в этом огромном романе вы найдете не более двух десятков, хорошо подсмотренных автором и на всю жизнь запоминающихся подробностей. Вроде, например, таких: там, где говорится про Анну: "Было что-то ужасное и жестокое в ее прелести"; или "Вронский чувствовал, что ему, так же, как лошади, хочется двигаться, кусаться, ему было и страшно и весело". Купец у Толстого крестится, "словно боится выронить что-то"... Только в одном случае Толстой не подыскал эпитета, - он пишет в той же "Анне Карениной": "Чувства давили ее какой-то тяжестью".
Вы понимаете - "какой-то". Ведь это ровно ничего не говорит!..
Вержбицкий сказал, что прочел где-то, будто Шиллер мог писать только тогда, когда на столе у него лежали гнилые яблоки.
- К сожалению, это не единственный случай, когда историки до смешного большое значение придают некоторым профессиональным навыкам писателей, - возразил Куприн. - Важно самому руководить собой, своим творчеством, даже своим воображением. Вы читали фантастические романы Соломина? - обратился он к гостям. - Если нет, то потеряли немного. Так этот Соломин рассказывал мне, что ложится спать, положив себе на голову резиновый пузырь с горячей водой. Ему начинают сниться кошмары, жена его будит, и Соломин торопливо записывает свои тягостные сны, чтобы потом использовать их как мотивы для очередной главы романа. К чему эти грелки, когда можно развить у себя нормальное, здоровое воображение!
Он помолчал и добавил, словно обращаясь уже только к самому себе:
- Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой... Я хотел бы пожить внутренней жизнью каждого человека, которого встречаю!
3
По Елизаветинской улице мимо зеленого домика Куприных шли процессии на гатчинское кладбище. Довольно часто это были проводы убившегося летчика. Тогда звуки траурного бетховенского марша заглушались ревом аэропланов: в воздух поднималась вся летучая эскадра и кружила над кладбищем. Вместо памятника на могиле устанавливался пропеллер, а в круглом отверстии для винта помещалась фотография погибшего. Воспитанники военной - авиационной Гатчинской школы Гатаюн платили жизнью за то, что стремились завоевать небо.
Первые русские летчики! Они завораживали воображение Куприна, всегда ценившего превыше всего отвагу, смелость, дерзкий молодой порыв, и он нашел им определение, простое и точное, - "люди-птицы".
"Да, это новая, совсем новая странная порода людей, появившаяся на свет божий почти вчера, почти на наших глазах, - писал он в очерке, посвященном пилоту Н. К. Коновалову. - Мы, современники, перевалившие через четвертый десяток лет, были свидетелями многих чудес. При нас засияло на улицах электричество, заговорил телефон, запел фонограф и задвигались на экране Оживленные фигуры, забегали трамваи и автомобили; радиотелеграф понес на сотни верст человеческую мысль, подводные лодки осуществили дерзкую мечту Жюля Верна... И вот мы уже перестали удивляться большинству открытий. Щелкая медным выключателем, мы в тот момент, когда комната озаряется ровным ярким сиянием, уже не говорим себе с радостной гордостью: "Да будет свет!" И любой петербургский коммерсант, слыша голос своего доверенного, говорящего из Москвы, кощунственно восклицает: "Прошу погромче. Сегодня телефон чертовски скверно работает!"
Но авиация никогда не перестает занимать, восхищать и снова удивлять свободные умы. Вот они высоко в воздухе проплывают над нами с поражающим гулом, волшебные плащи Мерлина, сундуки-самолеты, летающие ковры, воздушные корабли, ручные орлы, огромные сверкающие чешуей драконы - самая смелая сказка человечества, много тысячелетняя его греза, символ свободы духа и победы над темной тягостью земли! Само небо становится ближе, точно нисходит к тебе, когда, подняв кверху голову, следишь за вольным летом прозрачного аэроплана в голубой лазури".
Друг Уточкина и Заикина, сам поднимавшийся в воздух, Куприн скоро перезнакомился со всеми летчиками- гатчинцами - Юрковым, Коноваловым, Ткачевым, Северским-Прокофьевым, Росинским, Данилевским. Он наблюдал концовку беспосадочного перелета Киев - Гатчина, который совершил в 1914 году еще мало ему известный поручик Нестеров.
Здесь закладывалось будущее русской авиации, и, когда началась германская война, отсюда вышло множество героев, прославивших свое Отечество.
Куприн восхищался Нестеровым, впервые сделавшим мертвую петлю, а затем пошедшим на таран; капитаном Казаковым, сбившим шестнадцать немецких аппаратов; ротмистром Юрковым, который в самом начале войны приземлился на вражеской территории и, выдав себя за немецкого летчика, раздобыл необходимые сведения; но особенно близкие отношения сложились у него с семьей авиаторов Прокофьевых, где было три летчика - отец и два его сына.
"Папуля" Николай Прокофьев, под именем Северского игравший в оперетте, а затем в эмиграции снимавшийся в кино, летал на тяжелом боевом "фармане". Старший сын Жорж, лично перепробовавший все системы летательных машин, был знаменит как виртуоз по высшему пилотажу. Младший, Александр - военно-морской летчик, уже сбивший несколько германских машин и награжденный георгиевским темляком на кортике. Его удивительной судьбе Куприн посвятил рассказ - один из немногих, где отражена германская война, - "Сашка и Яшка".
При неудачной посадке после взрыва бомбы Александр Прокофьев потерял ногу. Но, выйдя из госпиталя, продолжал летать и с деревяшкой. Да как летать! Свободная душа человека-птицы преодолела невозможное и вернула инвалиду способность аса. Он расстрелял в упор мощный немецкий "альбатрос" в двухчасовом воздушном бою, за который был награжден золотым оружием, а затем сбил еще два германских аппарата в Моонзундском наступлении. Он сам стал живым амулетом для солдат-артиллеристов Церельского укрепления.
Критикуя ложную романтизацию войны, слащавое изображение подвигов, Куприн стремился показать, говоря его собственными словами, что герои - это "самые обыкновенные, бесхитростные люди, вовсе не думающие о своем геройстве и идущие на подвиг не во имя подвига, а во имя долга, обязательства защитить русскую землю, родину".
4
Как и большинство русских литераторов и деятелей искусства, Куприн воспринял войну 1914 года как войну безусловно освободительную, справедливую. 7 сентября на страницах газеты "Биржевые ведомости" он выступил вместе с Ф. К. Сологубом, Т. Л. Щепкиной-Куперник, Д. Н. Овсянико-Куликовским, Ф. Д. Батюшковым, И. Е. Репиным, Ф. И. Шаляпиным и другими, открывая своей статьей анкету о войне. Волна казенного патриотизма обошла очень немногих, захватив, как видно, и Куприна, но - любопытно - его больше интересует не сама по себе война как таковая, а то, что будет, должно быть после - то преображенное человечество, та преображенная Россия, которая, по его мысли, возникнет на обломках прежней, старой.

А. И. Куприн, мобилизованный в армию. 1914 г.
"Нынешнюю войну я считаю войной, которая освободит все народы как от взаимной вражды, так и - слава богу! - от "политики", - горячо утверждает он. - Поэтому при всем ужасе, с каким душа чувствует и кровь, и насилие, я считаю, что война христианская в самом глубоком смысле слова. Может быть, за нею уже видны пределы другого существования, к которому устремилась вековая мечта лучших умов человечества. Вот почему, выражаясь словом, какое я не очень люблю, эта война так и популярна, - я хотел бы этим сказать, - вот почему она находит такой единодушный отклик у самых разных людей, у самых разных народов, наполняет великолепной отвагой маленькую Бельгию, устраивает неожиданные союзы, заставляет Англию протянуть нам руку и т. п.
Весь мир почувствовал, что идет конец раздорам, что если теперь не осуществить начал любви и братства, то их не осуществить, быть может, никогда. Быть участником такой войны должен всякий. Это - долг, это - обязанность, это - радость и счастье".
И Куприн стремится стать участником войны. В конце сентября, желая оказаться поближе к фронту, он выезжает в Вильно, а вскоре снова надевает мундир поручика. Один из номеров петроградской газеты "Новь" открылся большой фотографией, под которой значилось: "А. И. Куприн, призванный в действующую армию". Мундир сидит на нем кургузо, Куприн полноват, страдает одышкой и склерозом. Но настроение у него бодрое, радостное. Накупил уставов, собрал все циркуляры и теперь мечтает попасть со своей дружиной "в дело". Правда, осуществиться этой мечте не удалось. Сорока четырехлетнего писателя направляют в Финляндию обучать новобранцев.
13 ноября 1914 года родные, друзья, представители прессы провожали Куприна па место его службы.
- Я совсем не ожидал, - заявил он корреспонденту газеты "Новь", - что меня так взволнует и оживит простое, казалось бы, привычное дело надеть мундир. Однако я пережил такое же волнение, как когда-то давно, перед производством в офицеры. Я вновь переживаю давно прошедшее и чувствую себя бодрым и веселым...
Бодростью и оптимизмом были пронизаны и письма
Куприна домашним из Финляндии, и только Елизавета Морицовна читала между строк, как медленно, но неуклонно менялось настроение ее мужа, как им овладевали уныние и разочарование. Это было еще разочарование в своих физических возможностях: могучий организм Куприна начал заметно сдавать, сказывались последствия бесшабашных лет, гульбы, азартного стремления добиться исполнения всех желаний.
Он вернулся в Гатчину весной 1915 года, похудевший, даже помолодевший, но растерянный, недоумевающий, почти пристыженный. Вечером в уютном зеленом домике за чаем рассказывал своей ненаглядной жене:
- Сюзинка, как я огорчен! Оказался вовсе не годным к военной службе... Сначала все шло хорошо, но потом стал уставать. В строю ходить с солдатами еще могу, но уже перебежки делать невозможно... Задыхаюсь. Да и нервы стали сдавать... Хочу что-нибудь сделать и забываю или делаю совершенно другое. Освидетельствовали меня и признали не способным и к строевой и ко всякой прочей службе... Простои бумажки составить не могу. Надо мной, веришь, и то смеялись, говорили, что после "Сатирикона" самое смешное - мои рапорты...
Елизавета Морицовна, жалея мужа, в душе радовалась тому, что счастливая звезда вернула его в Гатчину, и успокаивала:
- Зато теперь ты будешь всегда с нами, со мной и Куськой. И своим садом.
Близилась весна. Куприн целыми днями сидел на солнце, болезненно-счастливо ощущая пробуждение природы. Сладкая лень овладевала им: так бы и сидел, ничего не делая, а лишь наблюдал, как оживает все вокруг. Подойдет старенький садовник, постоит, помолчит, а йогом скажет:
- А сегодня, Александр Иванович, тополь рубашку стал менять.
И так сердечно радуется, что Куприн невольно заражается его чувством: "До чего хорошо весной дома, в саду!.."
Наезжавшим в Гатчину корреспондентам Куприн говорил о том, что нашел армию сильно переменившейся к лучшему.
- Как иногда встречаешь после многолетнего перерыва человека, которого помнил еще ребенком, и не веришь своим глазам, что он так вырос, так и на службе я не узнал ни солдат, ни офицеров, - рассказывал он журналисту из "Биржевых ведомостей". - Где же образы моего "Поединка"? Все выросли, стали неузнаваемы. В армию вошла новая, сильная струя, которая связала солдата с офицером. Общее чувство долга, общая опасность и общие неудобства соединили их. Таким образом, то, чего добивались много лет - слияния общества с народом, - теперь совершилось.
- Надолго ли?
- Я думаю, навсегда. По крайней мере, хочу в это верить. Пережитое должно навсегда связать интеллигенцию с народом. Хотя предугадывать будущее я боюсь...
- Правда ли, - спрашивал корреспондент, - что на днях выходит третья часть "Ямы"?
- Да! Но, к сожалению, относительно "Ямы" я вам ничего нового не скажу, - недовольный своим детищем, говорил Куприн. - Во всяком случае, я твердо верю, что сделал свое дело. Проституция - это еще более страшное явление, чем война или мор. Война пройдет, но проституция живет веками. Когда Лев Толстой прочитал "Яму", он сказал: "Грязно это". Возможно, что это грязь, но надо же очиститься от нее. И если бы сам Толстой написал с гениальностью великого художника о проституции, он бы сделал великое дело. К нему прислушались бы более, чем ко мне. К сожалению, мое перо слабо, я только пытался правильно осветить жизнь проституток и показать людям, что нельзя к ним относиться так, как относились до сих пор. И они люди...
Интервью заканчивалось неизбежным вопросом:
- Над чем вы работаете теперь?
- Абсолютно ни над чем, - невесело пояснял Куприн. - В Финляндии я писал рассказ "Драгунская молитва"... Не думайте, что я там пишу что-нибудь о психологии солдат на войне. Нет, там больше говорится о кавалерийских лошадях. Писать военные рассказы я не считаю возможным, не побывав на позициях. Как можно писать о буре в море, если сам никогда не видел не только легкого волнения, но даже самого моря? На войне я не бывал, и потому мне совершенно чужда психология сражающихся солдат...
Он задумывался, как бы прикидывая, на что еще может быть годен, и с надеждой говорил:
- Вот поправлю свое здоровье и поеду на фронт корреспондентом. Уверен, что это даст мне многое...?
5
В ответ на призывы помочь стране в трудную годину германской войны Куприн решил устроить в своем домике скромный, на десять коек, госпиталь.
В большой комнате, служившей гостиной и столовой, поставили койки, а в соседней, маленькой, была размещена перевязочная. Елизавета Морицовна вновь, как и десять лет назад, облачилась в костюм сестры милосердия, маленькую форму сшили и шестилетней Ксении. В купринский госпиталь направляли только легкораненых, и Ксения рассказывала солдатам сказки, играла с ними в шашки...
Маленький лазарет всегда был полон, хотя состав его, понятно, менялся. Солдаты большею частью были люди душевные, удалые и милые. Все заботы о себе они принимали с покровительственным добродушием старших братьев. Тон установился серьезный и деловой; в отношениях суровая и тонкая деликатность. Только в минуты прощания, перед возвращением на фронт, в грубой простоте раскрывались на минутку тепло и светло человеческие сердца. Да еще в легких мелочах сказывалась скрытая, не болтливая дружба.
Куприн поражался природной мудрости, даже врожденной интеллигентности многих из этих простых оторванных от земли крестьян. Откуда эта тонкость в восприятии искусства, слова? Как они слушали Гоголя, когда его читал Куприн! И с какой глубиной чувствовали красоту русской песни, восстановленной в строжайших формах, очищенной от небрежности и плохого вкуса, в исполнении уже завоевавшего популярность квартета И. Н. Кедрова, приглашенного в лазарет.
Гатчинский комендант, старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Бонячевский, несколько свысока даривший Куприна своей дружбой, наведывался в зеленый домик инспектировать новый госпиталь.

Зеленый домик в Гатчине
Как большинство старых русских генералов, он был не без странностей: говорил врастяжку, хрипловатым баском и величественно, не договаривая последних слогов - "за-меча-а-а...", "прекра-а-а...", "превосхо-о-о...". Его генеральской слабостью было живописать акварелью. В свободные минуты он собственноручно раскрашивал комнатные стенные шпалеры в своем старинном просторном деревянном особняке, над которым развевался штандарт синих кирасир, пейзажами - где дорожка в хвойном лесу, где березовая беседка. Чисто по-детски радовался всякой похвале и печалился только о том, что ему не давались человеческие лица.
Приезжая к Куприну, генерал неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял суворинское "Новое время" и "Колокол". Не терпел кадетской "Речи" и "Биржевых ведомостей".
- Слишком либера-а-а... - пояснял он хозяину. - И надеюсь также, что сочинений Куприна вы им читать не даете. Сам я этого писателя очень уважа-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, преждевре-е-е...
Солдаты встречали генерала положенной уставной игрой, и он, чрезвычайно довольный, возвращался к своей акварели.
В мае пятнадцатого года на Варшавском пути чья-то злая и опытная рука подожгла огромный поезд, груженный артиллерийскими снарядами. Снаряды рвались не сразу, вагонами, а часто-часто, один за другим, и музыка эта продолжалась без перерыва с трех утра и до семи вечера. До купринского домика долетала шрапнельная начинка и развороченные шрапнелью стаканы уже на излете.
На глазах семьи один стакан фунтов в десять пробил насквозь железный тамбур над сенями, другой сшиб трубу с прачечной, третий снес с замечательной ловкостью верхушку старой березы. Шрапнельная дробь все время, как град, стучала по крыше. Куприн с маленькой Аксиньей насобирал потом полное лукошко этих веских свинцовых шариков величиной с вишню.
Человеческая жертва была только одна: убило какую- то старушку на Люцевской улице.
В тот день сладу не было с ранеными. Они рвались вон из лазарета, в халатах, в туфлях, без шапок, как были.
- Сестра! Родная! Да пустите же нас. Ведь надо же расщепить поезд! - требовали они у Елизаветы Морицовны. - Ведь страшного ничего. Пустое дело!
Но маленькая хозяйка лазарета сдерживала их порыв крепкими невидимыми вожжами. Состав расцепил тринадцатилетний мальчуган, сын стрелочника. Он спас от взрыва девять двойных платформ, груженных снарядами для тяжелых орудий.
Куприну навсегда запомнились дорогие сердцу, чудесные солдаты: Николаенко, Балан, Дисненко, Тузов, Субуханкулов, Курицын, Буров... Позднее, в калейдоскопе страшных, кровавых событий, он не раз повторял их имена, гадая, где-то они, что с ними?
Госпиталь в зеленом домике пробыл недолго и к 1916 году закончил свое существование.
6
Куда пропало былое оживление, недавний душевный подъем, радостная вера в освободительную войну, которая преобразит и самое Россию? Куприн почасту хандрил, несмотря на все старания Елизаветы Морицовны держать его "в форме", неохотно и изредка садился за свой белый рабочий стол. Обстановка на фронте и внутри страны, надвигающаяся разруха, брожение в армии и в тылу - все это навевало невеселые размышления. Его отрадой и отдохновением оставался сад, где он проводил большую часть дня.
Весна 1916 года выдалась капризной, переменчивой, температура воздуха скакала, теплые погожие дни внезапно сменялись пронизывающе холодными. Навестившему его давнему приятелю - журналисту Васе Регинину Куприн жаловался:
- Не климат, а какое-то петроградское недоразумение. Вот тепло-тепло сейчас, а пойдет ладожский лед или вопреки всем ожиданиям завернет северный ветер, и все труды по парниковым и прочим насаждениям насмарку. И так обидно, что лелеемая нами радость одухотворенного труда исчезнет. А ладожского льда я положительно не выношу: подумай только, на расстоянии почти пятидесяти верст от Петрограда, в Гатчине, лежащей значительно выше столицы, делается нестерпимо холодно.
Он встретил Регинина около парников, тщательно укрытых поверх рам матами, и долго не мог расстаться с дорогой ему темой.
- Я лично люблю русскую здоровую зиму, не могу выносить Петроградской специфической зимы. На меня она действует угнетающе... - твердил он, когда шел с Регининым к дому.
- А как же творчество, писания? - поинтересовался тот по своей профессиональной репортерской привычке.
Куприн замахал руками.
- Отдаваться личному творчеству, художественной работе, передаче образов на бумагу? Тут я совсем беспомощен зимой. Веришь, приходится все переживать только в себе, таить даже в те минуты, когда мучительно хочется перенести все это в действительность, поскорее написать... Зато с первым весенним солнцем я оживаю, ощущаю прилив сил, дремавших за долгую зиму...
В большой комнате, после эвакуации госпиталя, снова вернувшей свой первоначальный вид, Елизавета Морицовна накрыла скромный стол.
Перехватив взгляд Регинина, Куприн понимающе покачал головой:
- Поневоле вспомнишь сытые довоенные дни, наши обильные застолья и веселые разговоры. Как все переменилось! Даже мой любимый гатчинский уголок - ресторанчик старика Веревкина, где он по моему рецепту варил раков с чесноком, и тот приказал долго жить.
- Зато Питер по-прежнему празднует вечера всеми своими ресторанами, шантанами, кинематографами, - усмехнулся Регинин. - "Единственная и неподражаемая" Настя Полякова в цыганских концертах! Драма "Кровавая роса" в "Пикадилли"! "Подобный дьяволу" в "Молнии"! "Жрица святой любви" и "Рампе"! "Первоклассная образцовая" программа в "Вилле Родэ"!.. Словно не было и нет этой треклятой войны.
- Да, о войне говорить мучительно, но не говорить о ней нельзя. Ну что же, поднимем настроение этим мутным, но, безусловно, благородным напитком, - предложил Куприн, разливая по рюмкам и в самом деле не совсем прозрачную жидкость. - Как и вся страна, я перешел на спирт и самогон. Выпьем Россию!
- За Россию! - повторил Регинин, ловко опорожнил рюмку с сивухой и, не закусив, спросил: - Как вы считаете, Александр Иванович, что ждет нас?
- Я скверный предсказатель, - вздохнул Куприн. - Но, кажется, самое трудное еще впереди. Я почувствовал это особенно остро, когда выехал в глубинку.
- Читал о вашей работе во Всероссийском земском союзе, о поездке в Киев...
Куприн засмеялся добродушно и невесело.
- Я, Васенька, оказался кругом нуль. Негоден как к строевой, так и к канцелярской службе. Уж настолько привык жить в фантастической области вымысла, жить без всякой отчетности, без всякого контроля, кроме отеческого попечения бдительной полиции, что Земгор мигом выявил полную мою неспособность к регулярной усидчивой кабинетной работе.
- Расскажите про Киев, - попросил Регинин. - Ведь там прошла ваша молодость, в том числе и литературная...
Куприн покосился на потучневшего Васю. Ничего не осталось от стройного живоглазого гимназистика Рапопорта десятилетней давности, влюблявшегося подряд во всех молодых дам и девушек, которому в Балаклаве старый заслуженный адмирал после исполнения мадригала его дочке разбил гитару о голову. О время, время!
- Если бы хоть кто-нибудь следовал заветам практической мудрости, как умна и ладна была бы жизнь! - воскликнул он, разливая пахучий напиток в рюмки. - Но - увы! - все соглашаются с их шаблонной справедливостью, верят им в теории, но поступают наперекор. И чаще всего сами советчики...
Они чокнулись, заели самогон отварными сморчками, собранными Куприным с Ксенией.
- Так и я, - продолжал Александр Иванович, - давно и часто повторял вовсе не новое изречение: "Не возвращайся никогда после многолетнего промежутка в те места, где прошла твоя ранняя молодость с ее мятежностью, ошибками, увлечениями, нуждой, падением, надеждами и мечтами. Со всем, что было так волшебно окрашено собственной жаждой впечатлений и упругой кошачьей живучестью. И сам испытал в Киеве всю тяжесть и всю ноющую печаль такого возвращения. Вот местный фельетонист. Я долго не могу признать его, хотя мы вместе с ним начинали есть горький литературный хлеб. Он - от злободневных стишков, я - от судебного и думского репортажа. Тогда это был высокий черноглазый меланхоличный брюнет, у которого курчавые волосы на голове торчали врозь крутыми штопорами. Теперь он маленький толстяк, окончательно плешивый, седобородый и в очках. Или эта дама в красном тяжелом капоте, мать четверых детей, в том числе одного боевого прапорщика, ожидающая пятого, оплывшая, эгоистичная в своем святом материнстве, тяжелая, распустившаяся, равнодушная. Неужели она была когда-то нашей тонкой, изящной, грациозной, нежной принцессой Грезой, в которую безнадежно и поголовно было влюблено все наше поколение? И узнаешь ли в важном, суровом прокуроре, каменно глядящем тебе в переносицу невидящим взором, прежнего беззаботного студента - милого Ваську Арапа, исполнявшего так неподражаемо танец людоедов с острова Фиджи вокруг жареного миссионера?..
Когда Куприн умолк, грустно уставившись на пустую рюмку, Регинин восхищенно воскликнул:
- Писать вам надо, Александр Иванович! Вас недаром так любит читатель и ждет именно от вас нового слова.
- Писать? О чем? - медленно сказал Куприн. - Сейчас все живут войной. Но на фронте мне не пришлось побывать. То не случалось оказии, то не было свободного автомобиля. Да все равно из мимолетных картин, из беглых расспросов, из отрывочных рассказов ведь никак не уловишь даже и тени того великого, страшного и простого, что совершается на войне.
- А ваши давние замыслы?
- Их очень много. И, видно, поэтому все движется вперед черепашьим шагом. То начинаю отделывать давно задуманную повесть из жизни монашеской братии "Желтый монастырь", то пишу продолжение старой повести "На переломе" "Юнкера" о моей юнкерской жизни с ее парадной и внутренней стороной, с тихой радостью первой любви и встреч на танцевальных вечерах со своими симпатиями. Но сам пойми, как можно стройно и спокойно отдаваться художественному творчеству, когда гремят страшные раскаты мировой войны!..
Провожая Регинина до вокзального павильона тихой и обезлюдевшей Гатчиной, густыми березовыми аллеями, садами сирени, буйствовавшей за палисадниками, Куприн, волнуясь, говорил:
- Ведь кончится же когда-нибудь эта страшная вой- па, размеров и ужасов которой не могло предвидеть самое жаркое человеческое воображение. Но даже в случае победы - а мы хотим, можем и должны победить! - все-таки Россия, вынесшая разрушительное бремя, долгое время будет походить на муравейник, по которому прошли тяжелые колеса телеги. Тогда потребуется многолетнее всеобщее, упорное и напряженное строительство. Понадобится твердая вера в собственные силы, чтобы не пасть духом и не опустить руки. Нельзя не верить стране! Или мы платонически, точно из театрального зала, точно "понарошку", умилялись терпению, уму, безграничной стойкости русского солдата, восхищались русским рабочим?..
Оп приостановился, поднял голову к бездонному беспокойному небу, в глубинах которого тихим комариным звоном напомнил о себе русский военный аэроплан.
- Как сладко мечтать о временах, - сказал Куприн, не отрывая взгляда от летящего аппарата, - когда грамотная, свободная, трезвая и по-человечески сытая Россия покроется сетью железных дорог, когда выйдут из недр земных неисчислимые природные богатства, когда наполнятся до краев Волга и Днепр, обводняться сухие равнины, облесятся песчаные пустыри, утучнится тощая почва! Когда великая страна займет со спокойным достоинством то настоящее место на земном шаре, которое ей по силе и по духу подобает!..
7
Центр столицы, ее самые респектабельные улицы и площади были запружены бесконечными толпами. На Невском, Литейном, Марсовом поле знамена, оркестры, крики, речи, смех, слезы радости. Роту солдат, побывавших в боях и увешанных крестами, встречают восторженными возгласами, вверх летят шапки, кто-то за неимением другого запускает калошу. Новый взрыв восторга: в толпе узнают старых народовольцев, политкаторжан, вышедших с огромными красными бантами: Брешко-Брешковскую, Засулич, Морозова... Река хоругвей, расплываясь алыми пятнами, теряется в перспективе прямых петербургских улиц, кажется, смывая и унося за ненадобностью прочь бронзовых государей - Петра Великого, Екатерину Вторую, Николая Первого, Александра Третьего...
Стотысячные толпы солдат, рабочих, крестьян, служащих праздничной чередой текли мимо Куприна. Петроград отмечал падение самодержавия.
- Свершилось... - шептал со слезами Куприн, вглядываясь в незнакомые возбужденные лица, ловя обрывки революционных песен, приветствий, возгласов. - Наконец-то!..
Февральская революция 1917 года застала его в Гельсингфорсе, откуда он немедленно выехал в Питер. В потрясших страну событиях Куприн увидел подтверждение своим мечтаниям о будущей свободной и сильной России. С самых первых "дней свобод" он становится темпераментным газетчиком-публицистом, а вскоре вместе с критиком П. Пильским берется редактировать эсеровскую газету "Свободная Россия". Одной из главных партий, претендующих на то, чтобы после февраля управлять страной - социалистам-революционерам было лестно и выгодно заполучить золотое перо Куприна.
Он пишет в эту пору много и легко в зеленом гатчинском домике и в Петроградском редакторском кабинете. Настоящее кажется ему простым и ясным: Россия добилась чаемых свобод, и теперь только надо сохранить завоеванное, отстоять от врага государственные границы, чтобы заняться затем мирным строительством.
Теперь как никогда ясно сказывается политическое простодушие Куприна, его расплывчатый и отвлеченный демократизм. И в злободневных откликах на события в стране - заметках "Пестрая книга", которые он регулярно публикует в газете, и в крупных очерках вроде напечатанного в двух номерах восторженного панегирика А. Ф. Керенскому "Сердце народное", и в скрытой и явной полемике с большевиками - всюду он выступает в качестве публициста, за внешней "беспартийностью" которого легко угадывается иная, чисто классовая мелкобуржуазная основа.
Куприн высоко ценит нравственный и духовный подвиг великого русского народа, его героическую историю и свободолюбивые традиции. Он исполнен глубокой веры в светлое будущее России. Из-под его пера выходят пламенные строки, обжигающие своим патриотическим, гражданственным накалом. Нет, не осуждена на бесславное разрушение страна, которая вынесла на своих плечах более того, что отмерено судьбою всем другим народам, - пишет он, - вынесла татарское иго, московскую византийщину, пугачевщину, крепостное бесправие, ужасы аракчеевщины и николаевщины, тягости непрестанных и бесцельных войн, начатых по почину политических шулеров или по капризу славолюбивых деспотов - вынесла это непосильное бремя и все-таки под налетом рабства сохранила живучесть, упорство и доброту души. Угнетаемый народ никогда не уставал протестовать. Лучшие, наиболее сильные люди из темной массы снизу шли в подвижники, шли в разбойничьи шайки. Гонимые старообрядцы сплотились в могучее, сильное, несокрушимое ядро. Два перста протопопа Аввакума, поднятые вверх из пламени костра - вот он - бунт русского духа. В Сибирь ссылало правительство и гнали помещики все страстное и живое из народа, не мирящееся с колодками закона и безумным произволом власти - и вот вам теперешние сибиряки, сыновья и внуки ссыльнопоселенцев - этот суровый, кряжистый, сильный, смелый, свободолюбивый народ, владеющий сказочно богатым краем.
А разве, спрессованная бессмысленным грузом самодержавия, не протестовала русская интеллигенция? Не та интеллигенция, какою ее себе представлял скверной памяти бывший околоточный надзиратель, который отечески распекал нашумевшего обывателя: "А еще интеллигентный человек, в крахмале и при цепочке, и брюки навыпуск!" А истинные печальники и великомученики страны, ее совесть и мозг и нервы. Вспомните декабристов, петрашевцев, народовольцев, переберите в уме весь кровавый синдик наших современников, борцов, сознательно погибших на наших глазах за святое и сладкое слово - свобода. Посмотрите: весь цвет и свет России, целые ряды ее молодых поколений, ее лучшие умы и чистейшие души прошли сквозь тяжкое горнило каторги, ссылки, жандармских застенков, одиночек - прошли и вышли оттуда, сохранив твердую веру в человечество и горячую любовь к человеку. Вспомните и нашу многострадальную литературу, этот термометр угнетенного общественного самосознания. Она задыхалась, принужденная к молчанию, надолго совсем замолкала, временами жалко мелела, но никогда и никто не мог поставить ее на колени и приказать говорить холопским языком..."
Но разруха, страшная разруха, надвигающаяся на страну, пугает и ужасает Куприна. Это навязчивое словцо встречало его повсюду: он натыкался на него в газетах, манифестах и приказах, в вагонных разговорах и семейной болтовне. Разруха уже стучалась в калитку зеленого гатчинского домика: деньги ничего не стоили, скромные драгоценности Елизаветы Морицовны - брошка, серьги, три кольца, брелок и цепочка - были в ломбарде. Хорошо еще, друзья не забывали Куприна. Как-то появился незнакомец, гнавший перед собой истощавшую корову. На недоуменные вопросы он ответил, что это
Ванечка Заикин купил корову для Куприных и послал ее через всю Россию...
Зловещие симптомы разрухи Куприн видит повсюду - и в длинных очередях за хлебом, и в разложении петроградского гарнизона, обратившего казармы "в ночлежку и в игорный вертеп", и в шумной деятельности анархиста Мамонта Дальского, артиста с большим драматическим дарованием и с "темпераментом Везувия", совратившего и поведшего за собой, за своими бредовыми идеями горсточку безусой зеленой молодежи, и в начавшемся неуклонном развале русской армии, которой Куприн по-прежнему горячо желает победы...
Не понимая, что народ устал от войны, не хочет и не может ее продолжать, он резко осуждает участившиеся случаи дезертирства, братания с немцами, отказа воевать. Особенно болезненно воспринял Куприн весть о том, что в числе полков, расформированных приказом военного министра за массовую неявку личного состава, оказался и 46-й пехотный Днепровский, в котором он начинал свою офицерскую службу.
Насколько отошел Куприн от собственных прежних взглядов на армию и ее роль в обществе, некогда высказанных в "Поединке"! Он убежден в благотворных переменах, якобы произошедших за двадцать лет как в русской армии вообще, так и в "родном" полку: "Уходили один за другим древние закоренелые мордобойцы, бурбоны, трынчики и питухи с образованием шморгонской академии. Офицерский состав обновлялся воспитанной, вежливой, гуманной молодежью. Прививалась забота офицера о солдате и доверие солдата к офицеру. Право, эти этапы казались мне чудесными".
С самого начала войны Куприн следил за судьбой 46-го пехотного полка и радовался его успехам: "Он участвовал в быстром натиске на Львов и Перемышль и в том легендарном безоружном, но безропотном отступлении, которое было вызвано предательством, продажностью, интригами и постыдным равнодушием власти. И вот теперь этот же полк выступил на позиции всего лишь в половинном составе. Где же причина такому позору? Живая страна может пережить все: чуму, голод, землетрясение, опустошительную войну, кровавую революцию, - и все-таки остаться живой. Но разложилась армия - умерла страна".
Куприн полемизирует с теми, кто желает поражения
России в войне, не жалея крепких слов и именуя своих противников "историческими болтунами, трибунными паяцами, честолюбивыми мизантропами, сумасшедшими алхимиками". За военным крахом ему видится только полное разрушение, развал, пыль, мусор, обломки, щебень, а в итоге пустое дикое место, не поддающееся ни лопате, ни сохе. Идеи большевизма как таковые привлекают, даже восхищают Куприна, но кажутся ему несвоевременными, утопическими. "Пусть учение Ленина в своей идеологии высоко, - писал он. - Но оно отворяет широко двери русскому бунту - бессмысленному и беспощадному".
Его тревожит историческое будущее России, которое, это Куприн понимает прекрасно, творится в 1917 году, в поворотные дни надежд, сомнений и испытаний.


© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, разработка ПО, оформление 2013-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://a-i-kuprin.ru/ "A-I-Kuprin.ru: Куприн Александр Иванович - биография, воспоминания современников, произведения"
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://a-i-kuprin.ru/ "A-I-Kuprin.ru: Куприн Александр Иванович - биография, воспоминания современников, произведения"
